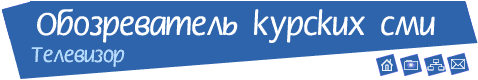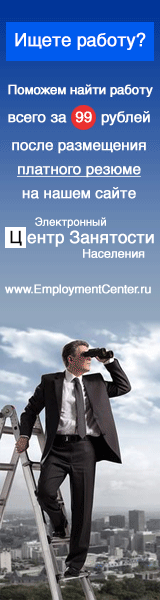После выхода фильма кто-то упрекнул режиссера в том, что там, где обычно даются три подробности, он дает тридцать три. На самом деле упрек оказался лучшим определением поэтики Алексея Германа. Мастером подробности был и его отец - это он описал в повести отважного человека, безусловного героя (прототипом его явился друг писателя - знаменитый начальник Ленинградского угрозыска в 30-40-е годы Иван Бодунов), поместив его в течение будней, не очень уютный быт, дав безответную любовь к актрисе, которая в свою очередь любит его друга - недавно овдовевшего писателя. И герой оказался еще и человеком, вызывавшим живую человеческую симпатию у учителя, за счет этих <трех подробностей> в первую очередь. В фильме количество подробностей, увеличенное до тридцати трех, переходит в качество. Чем больше бытовых примет возникает на экране, чем с большей тщательностью они фиксируются, тем явственней обнаруживается, что быт в его привычном понимании тут отсутствует. Мир живет войной: к ней готовятся, ее ожидают. Впрочем, для главного героя фильма - начальника опергруппы провинциального угрозыска Лапшина - она никогда и не заканчивалась. Люди приспособились к жизни, раз и навсегда переведенной на военное положение. Все в этом быте - временное, квартиры напоминают нечто среднее между общежитием и казармой - будь то окраинные бараки или квартира, где обитает герой вместе с товарищами по работе. Быт перенесен в будущее: <Ничего, вычистим землю, посадим сад и сами еще успеем погулять в этом саду>, - как заклинание то и дело повторяет герой и уезжает по голой мерзлой земле, напрочь схваченной льдом. Герои живут будущим, ибо настоящего не замечают - оно для них не существует. Грядущий идеал - куда большая реальность. Потому они счастливы. Счастливы блаженным своим неведением, счастливы абсолютным незнанием себя, которое заботливо взращивают. И только в странных приступах, очевидно, еще с гражданской войны мучающих Лапшина, прорывается тщательно загоняемое вглубь, и, очнувшись, герой с удивлением рассматривает подушку, мокрую от слез... Отсюда щемящая интонация фильма: люди в нем живут не человеческой жизнью, не зная об этом, и испытывают боль, не догадываясь, чем она вызвана. Поэтика Германа - это поэтика моментального снимка, разглядываемого эпоху спустя, когда на первый план выходит все то, что в момент запечатления совершенно не замечалось, не учитывалось, не принималось в расчет. Не случайно для каждого фильма он отбирал прежде всего сотни фотографий, преимущественно бытовых, технических - только не официальных. С прошествием времени всякий предмет утрачивает свой типовой облик и становится уникальным, ибо представительствует от имени эпохи в единственном числе. Это прошлое, переживаемое в настоящий момент, когда мозаичные осколки памяти, собранные воедино, дают вспышку - мгновенно возникающий образ целого. Когда готовый фильм был запрещен к выпуску, режиссер сделал несколько сокращений и доснял цветной пролог и эпилог, введя в него Рассказчика. Тем самым прояснилась суть поэтики, направление взгляда. Или точнее - обмен взглядами. Из настоящего в прошлое, из прошлого - в вечность, протагонистом которой в фильме является камера. На мире, на героях лежит печать обреченности. Она возникает уже от взгляда на этот мир из другой эпохи. Но в фильме Германа герои обречены еще и потому, что они полностью подчинились законам эпохи. Тут и обнаруживается, что они - типичные герои советского кино - вовсе не Герои, но жертвы, полностью принадлежащие времени и безжалостно им уносимые. А фильм Алексея Германа - осознание этого и потому прощание с героем и его кинематографом в целом. Советская элегия. |